
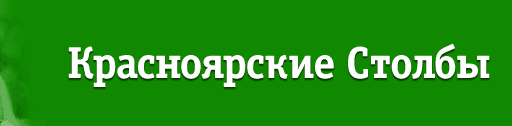
 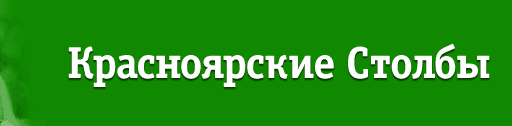 |
А.В. Василовский. Одиссея труженикаШел второй год первой мировой войны. Полк, в котором служил мой отец в звании младшего унтер-офицера, стоял недалеко от Улан-Удэ, в деревне Березовка, где меня и крестил полковой поп. Отец — уроженец дер. Емельяново, мать — дер. Еловой. После демобилизации в 1918 году мы приехали жить в пос."Им. 13 борцов", тогда "Стеклозавод", где и состоялось мое знакомство с колчаковцами. Небольшой отряд заехал к нам во двор и офицер с шумом забежал в наш дом и приказал матери печь блины. "А из чего я буду печь, когда нет ни муки, ни масла”. “У нас все есть" и, выйдя ненадолго, принес все. Мы — ребятишки сидели на печи с испугом и недоумением смотрели, как мать ополоснула эмалированный таз, куда мы писали, и завела в нем тесто. Не прошло и полчаса, как на стол, за которым сидели колчаковцы, посыпались оладьи. Но тут заскочил в избу запыхавшийся вестовой и крикнул "Красные !". Всех как метлой смело, а уж оладий в это день мы наелись от пуза. В 1922 г. семья переехала в Красноярск, где и осталась жить навсегда. До 3 класса учился я в школе N8. Она располагалась в 2-х этажном деревянном здании по ул. Красной Армии между ул. Диктатуры и Дзержинского. Позднее в этом здании была детская туббольница, а сейчас на этом месте завод Квант. С третьего класса я учился в губсоюзовской школе, которая стала N3, а теперь школа N20. Школа располагалась в здании по ул.Мира возле к-театра “Октябрь”. В 60-х годах школу перевели в новое здание примерно в том же районе по ул.Урицкого. В ней же учились и мои братья Валентин и Николай. Позднее в ней же учились мои сын и дочь, в ней же преподавала русский язык моя жена Иллария Сергеевна. Жили мы очень бедно. Отец каждый день приходил домой пьяный, из своего заработка давал матери 25-30 руб. в месяц. Дошло до такого нищенского состояния, что меня отдали в детский дом, где я и прожил год. Учился я неплохо, особо любил уроки рисования. Преподавателем рисования в младших классах у нас был А.А.Рахлецкий, бывший офицер. Он был прекрасный художник, но особенно ему удавались портреты, у него был целый альбом портретов преподавателей, которые он рисовал во время заседаний педсоветов. В старших классах рисование преподавал Д.И.Каратанов. В одном классе со мной учились подружки Туся Прозоровская, Катя Нащекина и Лена Крутовская. Тогда школа пережила много новинок и преобразований. Решался вопрос и продолжительности обучения — 8,9,10 и даже 11 лет, но после 9 класса всех нас выпустили с аттестатом, и дальше кто куда. Лето я проработал мотористом в ОСВОДе, а осенью открылся речной техникум, куда много наших парней и поступило. Преподавали хорошо, т.к. много было практики и кроме того, мы в объеме ФЗО обучались ремеслу: слесарное дело, литейное, кузнечное, жестянницкое, токарное, сварочное. С начала навигации и до закрытия ее мы плавали на судах и работали в штатных должностях. Я работал кочегаром, масленщиком, пом. механика. Тяжело было работать кочегаром. Мне только еще исполнилось 16 лет, и вот вахта у двух котлов. Судовые дрова тяжелые, метровые. Топку откроешь, волосы обгорают. Зашуровал одну топку, ведро воды вылил на себя и начинаешь шуровать другую. И так 4 часа. Только успеешь отдохнуть, и снова на вахту. А тут еще погрузка. В селах Новоселово, Даурское, Сорокино по 3-е суток разгружали в мешках пшеницу: 60-65 кг. Сначала ноги тряслись, а потом привык и таскал на "кондачка". Трудовая школа техникума мне пригодилась на всю жизнь. В 1933 году окончив на "отлично" техникум, я был направлен на работу в механико-судовую службу Енисейского пароходства, в группу теплотехники. Работа исследовательского характера. Летом с кучей приборов — на испытания судов, а зимой — камеральная обработка и практические рекомендации. Одновременно я учился в Заочном институте инженеров водного транспорта в Ленинграде (ЛИИВТ). В 1934 г. я разработал проект плавучей станции, которая осуществляла горячую промывку котлов судов, регенерацию смазки, мелкий механический ремонт, прачечная и агитпункт. Плавучую базу поручено было мне строить, как прорабу. В 1935 г. я был назначен руководителем группы механизации портов и участвовал в проектировании "Большого Красноярска". Мои проекты были выставлены в фойе театра им. Пушкина. В 1936 г. я перешел работать в Красноярскую Авиаремонтную базу полярной авиации, которая позднее стала заводом им. Побежимова. Во время войны это был "завод 477" Авиапрома. Авиация открыла для меня огромные просторы знакомства с новым и увлечение конструкторской работой. Начал я работу со старшего конструктора в 1936 г. и дошел до главного конструктора завода в 1947 г. Но больше всего работал заместителем главного конструктора, т.к. это освобождало от ежедневных совещаний и давало больше возможностей работать самому лично. Когда я пришел в авиацию, готовилась экспедиция на Северный полюс. Тогда самолеты ТБ-3, ТБ-1, Р-6, МБР-2 и др. не имели даже защищенных от ветра кабин пилотов, обогрева и был самый минимум навигационных приборов. Я принял самое активное участие в переоборудовании этих самолетов. В первую очередь я занялся проектированием фонарей, которые защищали кабину пилота от холодного встречного потока. Было сделано и дооборудование, а иногда и полное переоборудование доски приборов. Конечно, в основном, использовал советы пилотов и бортмехаников. Это были прекрасные люди и умельцы: Чухновский Б.Г., Молоков В.С., Водопьянов М.В., Черевичный И.И., Козлов М.И., Рейсиг А.Э., Побежимов Г.Т., Алексеев В.Д. и др. Это была исключительно дружная семья отважных людей. а машине Г.С.Леваневского я переоборудовал систему управления под руководством О.Ю.Шмидта. Но вот грянула вторая мировая война — Отечественная. Уже в понедельник 23 июня 1941 г. на завод прилетел генерал Мазурук И.П. и я получаю задание по переоборудованию всех находящихся на заводе самолетов, установить на них бомбосбрасыватели, пулеметные установки. На площадке завода им. Побежимова (ныне судостроительный) стояли американские Каталины, немецкие Дорнье-Вали, Сикорского СИ-54, Р-6, ТБ-1, МБР-2 и др. Никаких аэродинамических характеристик на них нет (Поляры Лилиенталя, центр давления, центр тяжести и др.). Следовательно, все нужно было делать, ориентируясь только на инженерную интуицию. До и не знаком я был с вооружением. Сказал об этом Мазуруку, а он говорит — иди на склад вооружения и знакомься , а помогут тебе летчики с черноморской авиации. Но никто мне не помог. Собирал и разбирал на складе, изучал, здесь же вырывая время поспать урывками. Но вот воистину — родился я в рубашке. Все бомбовые установки проверялись с бетонными бомбами и при сбрасывании ни кабрирования, ни пикирования ни на одном самолете не было. Успешно были установлены и пулеметные установки ультра-шкасы, носовые, бортовые, кинжальные. Это был мой большой успех! В 1941 г. из Америки поступили гидросамолеты Каталины, оборудованные радиокомпасами Бендикс и автопилотами Сперри. Вся документация к ним на английском языке. Много труда вложили муж и жена Кельмет, работавшие в радиоприборном цехе, но сумели приспособить к нашей системе питания. Для настройки автопилотов был приглашен специалист из московского автозавода, который сделал отладку и улетел в Москву. И вот машина Н-308 возвращается из рейса. Перестал работать автопилот. Целая группа инженеров пробовала свои знания по регулировке автопилота, но безуспешно. Вызвал меня директор завода подполковник Захаров С.А., и говорит: "Ты все оборудование на самолетах проектируешь, так вот к утру автопилот должен быть готов". Повозился я часа 2-3 на стенде и так, только кое-что угадывается. Взял я книгу по автоприборам, где были и принципиальные схемы автопилотов. Всю ночь штудировал, а рано утром снова поставил его на испытательный стенд и стал "гонять" по всем стабилизациям. Что-то стал нащупывать, но приходит пилот и говорит: "Давай, доработаешь на самолете при работающих моторах". Пошли, поставили, запустили моторы, я внизу под приборной доской колдую. Пилот говорит, что моторы прогрелись и мы поднимаемся в воздух. Поднялись, набрали контрольную высоту, но я попросил подняться еще на тысячу для страховки. Поднялись. Я снова под приборной доской и командую: "Включаю рули высоты". Как клюнет машина на нос, аж страшно. Выключил автопилот. Восстанавливаем высоту. Что-то я уже поймал. Включаю снова. Уже немного пошли вниз. Не выключая, я регулирую и выправил самолет. Ура! Понял весь секрет. Включаю элероны, эффект тот же. Самолет чуть не перевернуло. Но я быстро справился. Летим спокойно. Остался руль поворота, но уже теперь я не трясусь, а действую уверенно. И так автопилот заработал. Полчаса летали: курс, высота. Все хорошо. Снова у меня успех! И тут снова сюрприз! Вернулись из рейса Каталины. Немцы ворвались на наш Север. Обстреливают наши самолеты за 500 метров, а наши ультра-шкасы бьют только на 250. Снова из Москвы прилетело большое начальство и стали мы обсуждать, как вместо двух боковых "блюстеров" поставить в центре палубы дальнобойный пулемет ДБП. Нужно было разрезать самолет по элементам продольной прочности. Кроме того, пулеметная башня в центре фюзеляжа затеняет стабилизатор и неизвестно, как поведет себя самолет в полете. Завод не ЦАГИ. Проверить можно только в натуре. Ой, как рискованно! Всю ночь просидели, так и не найдя решение. Я в это время был начальником самолетно-ремонтного цеха. Попросил у начальника Управления Полярной Авиации полковника Ф.П.Данилова разрешения действовать по своему усмотрению. Он разрешил. Но когда в полдень все собрались около самолета, то ахнули. Самолет-то развалится! А я действовал. У меня не было еще ни чертежей, ни эскизов. Но я взял на эту работу квалифицированного мастера Пустовалова К.Н. и он с подручным Ивановым с моих слов все делали. А ночью я делал чертеж — через неделю башня для ДБП уже стояла на месте. Но как проверить ее безопасность полету? Летчик-миллионер Петров сказал, что он полетит один с парашютом. Вывели самолет на воду, запустили мотор и начались пробежки с подлетом. Все на берегу переживают, в том числе и я. Но вот он поднялся, сделал 5 кругов, сел и только заглушил мотор, показывает из кабины большой палец. Редкое везение! А ведь, как я потом узнал, в Калифорнии, где строили эти самолеты, была попытка поставить башню в центре фюзеляжа, но самолеты разрушались. Об этом позднее рассказал гл. технолог Чертов, который в это время был в Калифорнии. Итак, еще один успех! Наш завод переоборудовал как обычные самолеты на колесах, так и гидросамолеты. Аэродромом для колесных служил земляной аэродром ОСОВИАХИМА, позднее ДОСААФА, который располагался примерно в районе нынешней остановки электрички “Первомайская”. Гидросамолеты взлетали и садились на Енисейской протоке между о. Молокова и заводом. (Интересно отметить, что факт боевого применения во время войны гидросамолетов малоизвестен — С.П.) В 1941 г. мне еще раз пришлось испытать себя в незнакомом мне деле. Завод приступил к изготовлению "детали 7". как нам позднее стало известно, снарядов для "Катюш". Я участвовал вместе с моим другом Н.Паршиным в проектировании технологической оснастки. Но встал вопрос о термообработке снарядов. Передо мной была поставлена задача спроектировать такую газовую печь. А я и понятия не имел о печах. Пришлось взять учебник проф. Грум-Гржимайло о печах и вникнуть в теоретические основы. Главное, что снаряды должны укладываться в несколько рядов и иметь одинаковую температуру. Спроектировал я такую печь с большим мастером, но совершенно далеким от печного дела. Берзон П.С. сложил ее. Печь работала превосходно. Под моим наблюдением и участием сделана и вторая печь. Обе они отработали всю войну. Вот так тыл работал для победы. Всю войну я работал начальником цеха. Получил инвалидную книжку, но не уходил, работал. В 1946 г. по приказу нач. штаба тыла Советской Армии я был командирован в Германию, где работал на авиаремонтном заводе близ города Лейпциг. Мы ремонтировали, собирали немецкие самолеты и переносили их на Родину. В поисках материалов и самолетов мне пришлось ездить по всей Германии и многое я увидел. Это во многом перевернуло мои представления об организации производства, дисциплине, экономике. У нас на заводе в Красноярске ОТК составляло 70 человек, а у них таким же делом занимался 1 человек — гл. контролер герр Вент. У нас бухгалтерия при наличии ЭВМ составляет 72 человек, у них — 3, которые на каждый выпущенный самолет составляют калькуляцию и каждую субботу разносят в конвертах по рабочим местам зарплату. У нас для оформления получения изделий со склада нужно получить 14 подписей, у них — ни одной ! Рабочий составляет перечень необходимых материалов, приборов и по нему получает со склада без росписи. Вот вам и "экономика должна быть экономной"! Ведь эти вопросы висят и сейчас, да только никто не собирается их решать. Мне исключительно повезло. Меня пригласил начальник оккупационных войск Германии генерал-лейтенант Куцевалов на приемку всех военно-промышленных объектов Германии, отошедших СССР. Мы побывали на потайных складах, заводах и я столько увидел, что для меня это был полный переворот в том, чему нас учили в институте, партии. Вот такой пример. Фирма АЕГ насчитывает, кроме центра, 40 крупных филиалов, среди многого прочего централизованно выпускает много унифицированных деталей, изделий для всех типов самолетов Германии. Например, болты 1-го класса точности обходятся в 14 раз дешевле наших. Помнится, когда были Совнархозы, зам. председателя совнархоза у нас в городе М.Л.Левинсон пытался организовать централизованное производство крепежа и фитингов, но старые привычки производственников взяли верх. Провалилась хорошая затея!
Когда я вернулся из Германии, меня уже ждал весь парк самолетов. Нужно было устанавливать и испытывать в воздухе автопилоты. Работы до темна, а налетывал до тошноты. Самолеты ушли вовремя и ни один не вернулся из-за выхода из строя автопилота. Но война кончилась и продукция стала не нужна. Заводы стали перестраиваться на гражданскую продукцию. Наш завод N477 выпускал корабельные разведчики КАР-2 и морские бомбардировщики БЕ-4 главного конструктора Бериева. Самолетостроение перебазировалось в Таганрог. Бериев также уехал в Таганрог, где занимался разработкой реактивных самолетов и, в частности, создал уникальный реактивный гидросамолет (Интересный факт! В широкодоступной литературе об этих экспериментах информации нет. — С.П.). У нас осталась полярная авиация. Директор завода Шелухин М.И. обратился в МАП с просьбой дать заводу загрузку по самолетостроению. Ему предложили делать оперение для самолетов Антонова смешанной конструкции. Шелухин отказался, считая это обидным и мелким занятием. У нас на складе скопилось много авиамоторов "Зибель" и директор предложил мне разработать проект для производства вертолетов. Задача очень сложная, но приказ есть приказ. Я собрал все журналы "Вестник воздушного флота", где печатались материалы по расчету и проектированию вертолетов. Подобрал журналы "Американская авиапромышленность", где были статьи и фотографии вертолетов Игоря Сикорского. Взял себе помощника, молодого выпускника МАИ Володю Сорина, и мы с ним засели за расчеты. Явно не хватало расчетных данных. Командировали Сорина в конструкторское бюро вертолетчиков Микояна, Миля, Камова. Но они ничего не дали. Больше того, что печатается, у них нет. Пришлось работать с тем, что есть. Я взял на себя американский метод, переводил с английского, а Сорин по "Вестнику воздушного флота". Сличали результаты. И что интересно — расхождения были очень незначительными. У Микояна, Миля, Камова вертолеты были в виде летающих вагонов с винтами по концам фюзеляжа. Мы же взяли за образец классическую модель И.Сикорского. Очень долго и тяжело шла разработка винта с его сложной работой и управлением вращения лопастей, наклоном головки и т.д. Здорово были обескуражены, когда по расчетам лонжерон махового крыла получился переменного (конусообразного) сечения и прочностью 170 кГ/ кв. см. Технически было неясно, как сделать. А ведь современные вертолеты именно так и сделаны! Мы закончили эскизный проект и расчеты. Директор забрал все материалы и улетел в Москву, в МАП. Больше мы своих материалов не видели, судьба их неизвестна. Так закончилась для меня еще одна затея, которая не увенчалась успехом, но многое прибавила к моим знаниям. В 1949 г. директор завода предложим мне разработать проект для индивидуальных домов-коттеджей. Я разработал, мой проект был одобрен и подписан для производства секретарем Крайкома КПСС Аверкием Борисовичем Аристовым. Я по конкурсу вышел первым. 50 домов 3-х типов были построены, и сейчас они составляют ул. им. Побежимова. После этого я спроектировал 2 цеха железобетонных конструкций (деревообрабатывающий и кузнечный) и реконструировал 2 здания под магазины, которые существуют и сейчас. После участия в конкурсе на проект Городской доски почета, где я получил первую премию, и еще в одном конкурсе, я получил приглашение Красноярского Союза художников при участии Т.В.Ряннеля. Но уйти с завода мне не разрешили. Получал еще дважды приглашения, но директор и парторганизация разрешение не дали. Так я не стал профессиональным художником, хотя как самодеятельный несколько раз участвовал в выставках, в том числе в ГДР. С 1946 пор 1975 г. я работал главным конструктором, заместителем, главным инженером, его заместителем. От должностей "Главного" я стремился как можно скорее освободиться. Не инженерная это должность, а административная. Постоянные совещания, заседания днем и вечером до 9-10 час. Я считал это пустой тратой времени и приучающей начальников днем ничего не делать, а решение вопросов переносить к директору на вечер. Но и здесь были ругань, клятвы, вранье, а дело не двигалось. В 1958 г. мною была разработана установка для сушки древесины токами промышленной частоты (ТПЧ). (Думаю, что А.В. имеет в виду ТВЧ — С.П.). Установка была сделана цехами ОГМ и ОГЭ и успешно работала. Ранее для сушки древесины — сосны — до влажности 11-12% калориферной установке требовалось 18-20 дней и доска растрескивалась. Сушка в камере ТПЧ сократилась до 4-5 дней. Технологический институт долго бился над такой установкой, но такого результата получить не мог, и ученые приходили к нам за консультацией и опытом. В 1959 г. встал вопрос о противопожарной пропитке древесины (антиперрирование), идущей для судостроения. В крае таких установок не было. Были установки антисептирования, и то примитивные. Я разработал установку с вакуумной регулировкой режимов. Установка работала надежно и давала хорошие результаты. После пропитки древесина не загоралась. В 1960 г. вырос объем производства судостроения, а, следовательно, и количество перерабатываемой толстолистовой стали до 12 мм. Я разработал принципиальную схему линии автоматической переработки стали, а разработку отдельных агрегатов выполнили инженеры, находившиеся в моем подчинении: Черных, Виттер, Болдырева. Линия выполняла операции:
Эта линия работает и по настоящее время. За ее разработку на конкурсе ВЦСПС по механизации и автоматизации производства я стал лауреатом, а за нее же и за другие линии и установки механизации и автоматизации получил 4 диплома. Получили их некоторые другие участники разработки и внедрения. В круг моих обязанностей входило: расчет производительных мощностей, разработка технологических планировок, заказ технологического оборудования, расчет мобилизационных мощностей, разработка планов новой техники. Моими верными помощниками в этом были Зубарев Б.И., Булане Я.Я. Очень много времени мною было потрачено на создание мощностей по производству военной техники. Поездка в командировки на отечественные военные заводы, в проектные институты, в министерство обороны и т.д. Принимал самое активное участие в проектировании под спецпроизводство Ленинградским институтом новых цехов, в разработке принципиально новой технологии, технологических планировок и заказе нового оборудования. Последние 12 лет я руководил дипломным проектированием при кафедре Технологии машиностроения Красноярского политехнического института. Сам я в 1937 г. закончил институт, но без защиты дипломного проекта из-за связи с дочерью врага народа Подпориной Илларией Сергеевной, которая вопреки большим усилиям НКВД стала моей женой и с которой мы отметили уже золотую свадьбу и продолжаем жить вместе. Имеем сына, дочь, 3 внука, 1 внучку и 3 правнука. В 1953 г. окончил 4-х годичный вечерний Университет, философский факультет, но знания его практически реализованы не были. В 1940 г. получил из Ленинградского института, по моему неоднократному запросу, удостоверение об окончании мною полного курса института, но без защиты дипломного проекта. В начале мая 1941 г. через первый отдел завода отправил документы на поступление в Академию воздушного флота. И вдруг началась война! Ответа я не получил, да и не до того было. Обращаться после войны я не стал, т.к. мучила болезнь, дети, ненормированная работа. В конце войны мне было присвоено звание инженера-капитана 3 ранга (морской авиации). Всего на своем заводе я проработал 40 лет. За это время мне были присвоены звания "Почетного ветерана", "Почетного полярника". Получил 8 правительственных наград. Завод 4 раза менял свое название (Авиамастерские Управления полярной авиации, Авиаремонтный завод, ЦАРБ, Завод N477). За это время сменилось 30 директоров. Но только к одному из них у меня сохранилась память и симпатия. Это Псомиади Николай Анастасьевич. Он действительно любил завод, коллектив, много сделал для развития завода, оснащение его современным оборудованием, сделал его передовым в Кировском районе. Это при нем построены новые корпуса цехов, пионерлагерь, детский сад, профилакторий, оранжерея, столовая, спортзал. Ему было присвоено звание "Почетного гражданина города". Это был замечательный человек. В 1976 г. я пошел на пенсию и мой трудовой путь кончился. Осталось для меня: живопись, лыжи, Столбы, книги и постоянный мой спутник — жена. Столбы в моей жизниПервый раз на Столбы я пришел в июне 1924 г. Жил я тогда летом на даче Крутовского, что на горе, в устье Лалетиной. Там расположился пионерский лагерь. Пожалуй, первый. Вечером у костра с нами вел беседу один из партизан Щетинкина и Владимир Михайлович Крутовский. Они говорили нам о Сибирской природе, ее красоте и рассказали о замечательных Столбах. И вот мы 6 человек под руководством старшей пионервожатой Петушковой Наташи пошли в однодневный поход на Столбы. Хотя мне и было всего 9 лет, дорогу одолел легко. Там мы ходили по тропинке от скалы к скале. Все восхищались и забирались на доступные камни. Так мы случайно набрели на стоянку "Ферма". Александр Леопольдович Яворский стоял на камне в шляпе и жилетке и что-то шутил, а под камнем у костра возилось человек 5-6. Потом позднее уже я узнал и Яворского и Абалакова В.М., сестер Чередовых М. и В. Путешествуя дальше, мы подошли к избушке, которая называлась Нелидовка, где никого не было, кроме одного художника. Он сидел на бревне и рисовал уголок леса. Мы были поражены красотой и верностью рисунка. Застывши, мы стояли за его спиной и наблюдали, как он кладет краски на холст. Почувствовав нас, он обернулся и у нас завязалась короткая беседа. — Как вы хорошо рисуете — сказали мы — Вы, наверное, учились где-нибудь? Он, прищурив один глаз, не торопясь, ответил: — Да, учился, в Петербургской Академии Художеств. Не всем было это ясно, но мы поняли, что перед нами большой художник. А был это Дмитрий Иннокентьевич Каратанов, у которого мне позднее довелось учиться рисованию 4 года, а дружба между нами сохранилась до самой его смерти. В 1925 г. у нас уже было 3 похода на Столбы с Н.Петушковой, а в 1927 году нас 3-х человек подобрал взрослый парень из соседней ограды, которому было лет 18-19. Ходил он в шляпе, опоясанный красным кушаком. Тогда мы одолели 4-й Столб, Бабушку, Внучку, а к концу лета и Первый Столб Катушками. В 1929 году мой сосед и друг Николашка сказал, что они, группа выпускников ФЗУ, строят под Дедом избушку и приглашают меня. С тех пор изба, которая получила имя "Вилла", стала и моей избой. Ходили мы и зимой и летом, в любую погоду. А это 5 часов ходу от дома, но каждую субботу мы неизменно собирались в избе. Хорошие были ребята, непьющие. Толя Берков умер, Леня Покровский погиб на фронте, Николай Августинович умер, ушли из жизни и другие. Вечерами у костра собиралась хорошая компания. Приходили из "Решета", "Вигвама", устраивали концерты с плясками и песнями. Здорово плясала Саша Белорусова или, как ее тогда звали, Саша-Сучок, так как у нее за кушаком всегда торчал, как пистолет, сучок. Лазили мы все хорошо, без кушаков и веревок. Осенью объедались черникой, которой было полно возле самой избушки. Иногда зимой я уходил с Сашей Потылицыным и Донатом Гринбергом в избу "Копченые". Там бывал слесарь-железнодорожник Виктор Карпович Хребтов. Как он пел! Какой у него был бас! В нашу избу частенько захаживал первый наблюдатель Столбов — "Михвас" — Михаил Васильевич Егоров. Величайший страж Столбов. Его боялись и уважали. Захаживал я к и Елене Владимировне Крутовской — матери Лены Крутовской, с которой я учился в одном классе в школе. Часто навещали мы с Николаем наблюдательницу Марию Никифоровну Кулибабу. Сначала ее изба стояла на перевале за "пыхтуном", а потом на "Веселой гривке". К 1937 году на Столбах было 33 избушки, но в 1937 г. их всех уничтожили по приказу НКВД. Осталось всего 4 избы. Очаг контрреволюции, шпионажа, диверсий и антисоветской пропаганды был доблестно уничтожен! Многие перестали ходить на Столбы, но многие ушли на стоянки под камнями. Я со своей подругой Лялечкой ушел под Абатак, в шалаш, где мы обитались несколько лет уже и с детьми. Шалаш был построен вокруг дерева, печки не было, только костер снаружи. Однажды в сырую погоду мы решили подсушить "помещение", развели внутри костерок и чуть сами не сгорели, т.к. шалаш вспыхнул. Ходили мы туда редко — работа, довольно далеко, да и зимой без печки нельзя. Была у нас в ту пору собака. Однажды наловили в Базаихе клепки для бочек — доски, из которых делают бочки. По Базаихе в ту пору активно сплавляли лес. Развалины водозапорных сооружений для регулирования процесса сплава на Базаихе можно увидеть и сейчас. Хотели из тех клепок сделать стол. И как-то случилось, что сплавщики оказались у шалаша, когда мужчин в лагере не было, только И.С. Они увидели клепки и такой шум подняли, но собака бросилась на защиту и выгнала сплавщиков. Война спутала все карты. Тут уж было не до Столбов. Работа и работа, полуголодом, день и ночь. Но все же раза два я со своим другом и замечательным человеком Олегом Евтифеевым зимой Катушками сбегали на Первый столб и чуть не отморозили ноги. Голодные мы быстро замерзали. Даже на полпути грелись у костра. И вот в 1953 году вернулся из Гулага наш сосед по двору А.Л.Яворский. Замечательный, интеллигентный, жизнерадостный с энциклопедическими знаниями человек. Мы вдвоем с ним сбегали зимой на Столбы, а летом он привел нас в избушку на Кузьмичеву поляну, где он последний год скрывался без прописки. Избушка, как ее называли "Дырявая", была очень маленькая, влезали в нее почти ползком. Но с печкой в ней было тепло, хотя и спали на земле, на соломенной трухе. Избушка была построена еще в 1916 году базайским крестьянином Иваном Кузьмичем Беляевым, как заимка. Здесь они сеяли овес, пшеницу, заготавливали на зиму дрова. По поляне бегали зайцы, а на склоне горы было много брусники. С организацией заповедника заимку ликвидировали, но избушка осталась. В 1931 г. компания столбистов во главе с А.Л.Яворским избу случайно обнаружила. Избу немного отремонтировали и стали сюда ходить. Назвали ее "Дырявая". Тогда сюда ходили до 1937 г. А.Л.Яворский, В.М.Абалаков, А.И.Роганов, А.Ф.Тулунин, А.Н.Нелидов, М.В.Лисовский, Е.И.Овсянникова, А.Н.Морозова, Д.И.Каратанов, В.Г. Лотоцкая. Это была хорошая, веселая компания, но в 37 году карающий меч НКВД настиг половину из них — и были расстреляны. Всех их лично я знал и по настоящее время они живут в моей памяти. В 1956 г. избушка сгорела и с разрешения заповедника на этом месте была построена новая. Она была уже высокая, с печкой, нарами и столом, полом и большим окном. Но она была засыпная и, простояв 20 лет, сгнила.
В нашу избу ходили и художники: А.П.Лекаренко, А.Г.Поздеев, Т.В.Ряннель, Г.М.Горенский, В.Капелько, Р.К.Руйга, В.Н.Ломанов, П.Н.Салтыков, А.Ф.Грачев, Н.В.Сальников, В.Н.Сергин. В.Н.Шевченко — пенсионер, в прошлом речной, морской и полярный штурман, разработал и выпустил подробную карту Столбов с линиями высот. Заглядывали в нашу избушку и альпинисты и скалолазы. Четверо из них, уйдя в горы, не вернулись — погибли. Это — Валерий Лутченко, Саша Сухих, Саша Артанов, Василий Гладков. Бывали в нашей избе и мастера спорта: Р.Р.Руйга, В.Г.Путинцев, З.М.Письман, В.Паршин, В.В.Базаров, А.Н.Губанов, В.Гаврюшкин. Не оставляли без внимания нашу избу и ученые, доктора наук: А.Н.Орлов, Р.Е.Ершов, Р.Г.Хлебопрос, Н.Т.Терских, В.Н.Жуковский и кандидаты наук: Н.И.Исаева, Т.М.Ломанова, Г.М.Алдонин и др. Сережа Панько защитил кандидатскую диссертацию, а позднее и докторскую, стал профессором, а начал ходить в избу молодым инженером. Володя Кравченко был учеником Илларии Сергеевны, а ныне — он ведущий специалист Красноярского НИИ радиосвязи, лауреат Государственной премии. Избу посещали писатели: Роман Солнцев, Эдуард Русаков, Александр Астраханцев, Евгений Попов.
Мой спутник верныйЖена моя, урожденная Подпорина Иллария Сергеевна, еще за три года до нашей свадьбы стала моим спутником во всех походах и помощником во всех делах. Мать ее, Подпорина П.И., была учительница, урожденная дворянка и красная партизанка, а ее отец Мордвинов И.М., петербургский инженер, за участие в революционном движении был выслан в Красноярск, но и здесь снова участвовал в восстании железнодорожников. Его сын Тигрий за убийство полицейского был арестован и осужден на 17 лет Александровского централа. Так что Иллария — тоже урожденная дворянка, на звание которой она никогда не претендовала. Она окончила Красноярский педагогический институт и стала народной учительницей, преподавателем русского языка и литературы сначала в школе N 33, а потом N 20, где ей было присвоено звание "Отличник народного просвещения". Ее большой портрет был вывешен в ЦУМе и на городской Доске почета.
(Rem. Последний достаточно большой поход мы совершили 26 августа 1993 года, в 23 юбилей свадьбы Нэли и Сережи Панько. Мы прошли через Центральный Столбы по Откликным в избу в компании с Н. и С. Панько и Виталием Крейнделем. Осенью И.С. парализовало, она упала в коридоре, благо у А.В. были запасные ключи. Она отлежала более месяца в больнице, но в мае 94 они уже уехали в избу. В конце 94 г. А.В. лег в больницу. Ему удалили здоровенный камень. Всю зиму мы по очереди ходили кормить собак. С мая 95 они окончательно перебрались в избу. А.В. сделал тренажер возле городьбы, с помощью которого И.С. тренируется в ходьбе и приседаниях). (Последнее примечание)25 августа 1997 г. Виталий Крейндель и С.П. пришли в избу со стороны Ермака в конце дня. Как обычно, собаки выскочили с лаем. Вышел А.В., но уже по его виду мы поняли, что что-то произошло. Оказалось, что в избе были гости и, когда А.В. вышел их проводить, И.С. упала с лавки. Васильич не смог ее поднять и она почти сутки лежала на полу без сознания. Он подоткнул под нее матрасик и накрыл одеялом. Мы помогли поднять ее на нары. Вечером пришел Сергей Василовский. Он сказал, что что-то его влекло, он что-то почуствовал. Мы предлагали увести ее в город, однако они отказались. мотивируя тем, что в этом состоянии ее нельзя трогать. На следующий день Сергей привел врача, который подтвердил их позицию и высказал предположение, что опять произошел инсульт и что дело одного-двух дней. Иллария Сергеевна так и не пришла в сознание и 26 августа умерла. Через 40 дней после ее смерти А.В. прихватила аневризма аорты и его увезли в город. Предстояла сложная операция и мы даже сдавали ему кровь. Операция прошла успешно и Васильич вроде бы даже начал ходить, но внезапно аорта лопнула в другом месте и он скончался. Похоронили их рядом с избой на дорогой их сердцам Кузьмичевой поляне. Вот так и закончилась жизнь этих двух прекрасных людей, которых все мы очень любили. Они прожили большую жизнь в любви друг к дугу и умерли, практически, в один день. Васильича сгубила не аневризма, а тоска по своей возлюбленной. На этом закончилась и история избы на Кузьмичевой поляне, куда мы ходили много лет, где выросли наши дети и где нам всегда было хорошо. Вечная память в наших сердцах и наша любовь Анатолию Васильевичу и Илларии Сергеевне Василовским! Послание ГрифамПривет Вам,
Грифы, от Дырявой В него не
всякий заберется Как Карфаген, Вас трижды жгли И вновь
звенит в скале гитара Вот жаль, не стало УНИТАЗА, На тросе лунные прогулки И на скале в своем чертоге А в зимний
вечер, когда звезды Лаптенок песни распевает, А Коваленко все мечтает, У печки греется Хвостенко, На Крепость
с медным самоваром Вы словно дьяволы на скалах Медовый месяц вам не раз И по заносам,
по ухабам Да, из любви
к прекрасной даме И мы желаем вам успехов И пусть воспитанники ваши Но не забудьте и "Дырявой" И многи, многие здесь были. Итак, вас в гости приглашаем А.В. Кузьмичева поляна, изба, август 1995 Торжество на Кузьмичевой полянеНа Кузьмичевой нынче пир. Царит веселье, шутки, смех. Рязанцев кверху перст поднял. Какой-то миг
— и стол накрыт. Мясной пирог,
байкальский омуль, К вину лимон,
а к чаю торт, Грибки соленые, маслята, Стояли вина трех
сортов: Тот знак подал Сергей Панько! И первый тост за юбиляра — Мгновенье — и шампань открыта, И на носу очки поправив, И женщины божественной улыбкой Тут, одолевши
с потом гору, Рязанцев ждать
всех не заставил Под крики громкие "ура" Один лишь Горенский молчал. Но тут с гитарой за спиною Он тронул струны и запел. На Кузьмичевой идет пир, А под горой шумит Калтат. И на
многие года, навечно Апрель 1995 Глухарь на торжествахМы за праздничным столом И все, конечно,
о Столбах Сидели. Весело шутили И вдруг Зырянов говорит: И впрямь — сидит глухарь огромный На юбилей, знать, прилетел. Орлов-профессор улыбнулся Стал Кнорре с ним искать контакт
Вот так на знатный юбилей А день был праздничный, пасхальный АВ 24.4.95 Мария Никифоровна КулибабаКогда выползешь
в Пыхтун Как Столбинская
избушка А в углу стояла кадка На окошке занавески И жила в избушке Маша В заповеднике
она С Николашкою не раз На лице
всегда улыбка Только вдруг избы не стало Вот идем
зимой однажды Видим — на Веселой гривке Долго в этот зимний вечер
Понесли Столбы потерю Размышления на нарах.
Веселые, живые,
молодые Рязанец, Крейндель и Панько Как будто было все вчера Еще никто не был женат Андрей Поздеев на бумагу Ах, как же
молоды все были Теперь уж нам так не собраться Лежу на
нарах и мечтаю 10.10.93 АВ Два братаЖил на кордоне у устья Калтата Прошел он войну и был смелый мужик. Дуплянки на тропах бывали в порядке. Он саженцы кедра у Китайки садил Любил он Столбы и берег от увечья Да только однажды попал он в беду В свой дом на Калтате уж он не пришел Кордон на Калтате пустым не остался Он первые годы ходил с карабином, Открылась
свобода ходить, где хотелось. Но по "учетному" в год дважды ходил, Но Сатана от него не отстал И сердце не раз уж сигналит ему: За жизнь бороться уж сердце устало 21.10.95 А.Василовский РаздумьеКузьмичева поляна вновь под снегом лежит Заиграло вокруг миллиардом огней И восторженный весь я по лесу иду Горы, тропы и
скалы, да ночевки в лесу И утихший стоит очарованный лес декабрь 1995 А.В. -х-х-х-В эту майскую ночь Их застала
пора АВ, 96 А.В. Василовский.Одиссея труженика Автор: Василовский Анатолий Васильевич Владелец: Панько Сергей Петрович Предоставлено: Панько Сергей Петрович |
Использование материалов сайта разрешено только при согласии авторов материалов. | |