
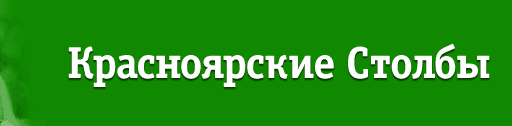
 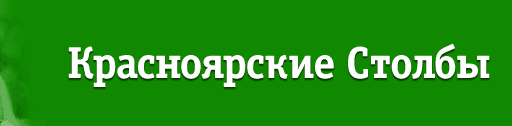 |
Похождения несостоявшегося солдата из БазаихиЭтот рассказа, едва ли не исповедь, был мною услышан на Столбах, в избушке Сакля. Морозным будним вечером я ушел туда от городских суетных забот, чтобы побыть пару дней одному, привести в порядок мысли свои и чувства, и был неприятно поначалу удивлен, застав в избе незнакомца, довольно пожилого, как мне тогда показалось, мужчину лет пятидесяти. Делать, однако, нечего: мы познакомились, вместе сгоношили нехитрый столбовский ужин, выпили изрядно и, конечно, разговорились. Путем причудливых ассоциаций разговор наш перекинулся на тему второй мировой; Андрей – так звали моего нового знакомца – стал со временем отчего-то вздыхать, пытливо поглядывать на меня и, наконец, сказал: «Ты помолчи-ка немного, послушай мою историю. Раньше я ее никому не рассказывал, да и ты больше такого никогда и ни от кого не услышишь. И впрямь слушал я, забыв о хмеле и с разинутым, как говорится, ртом. Ах, молодость беспечная и нерасчетливая! Мне бы тогда, на свежую память, записать этот рассказа – нет, не записал, и теперь пропали из памяти какие-то детали, весьма существенные, без которых он многое теряет. Хотя много и запомнилось. Запомнилось и то, что, понимая мое живое сочувствие, рассказчик начинал порой плакать. Не по-бабьи, конечно, не навзрыд, а замолкая, утирая слезы и глядя отрешенным взглядом куда-то сквозь стены избы, пространство и время. — Наверное, ты поймешь меня, Седой: дело в том, что я был у немцев в плену. Не я один, нас туда попало больше пяти миллионов — это несколько армейских соединений, понимаешь? Многие живы и сейчас, ходят где-то между нами и молчат о своем военном прошлом, стыдятся его, хотя мне вот, к примеру, чего стыдиться? Я родился в 1920 году и жил в поселке Базаиха. Знаешь там деревянную церковку, где сейчас склад макулатуры? В ней меня окрестили. Ну, а как подрос, Столбы — вот они, близко, потому и бегал сюда часто, летом пропадал здесь неделями. К восемнадцати годам залез уже на все скалы и чуть ли не всеми известными ходами. Знавал всех знаменитых столбистов, да и сам был здесь не на последнем счету. Все бы хорошо, если бы не война, будь она проклята! Меня призвали сразу же, в первые дни; как сейчас понимаю, на роль пушечного мяса: пока фашист в меня стреляет, время проходит. Без подготовки, вот тебе мосинский самопал образца 1897 года — и давай, защищай от фашиста Белоруссию, заслоняй на самых дальних подступах Москву. Уже во втором бою и зацепило: контузия, и рука насквозь осколком продырявлена, благо, хоть кость не задело. Те минуты я помню хорошо, хоть в голове была сильная боль и туман: кто-то куда-то бежит, кричит, стреляет, а я никак не могу сообразить, что же это творится вокруг и что я должен делать. Чуть оклемался, уже когда меня наши же тащили волоком к немцам в тыл — под конвоем тащили. До самой зимы нас держали во временном лагере, а это были неотапливаемые склады, превращенные в бараки и обнесенные по периметру колючей проволокой. Немцы, видишь ли, не предполагали, что на их Восточном фронте будет столько пленных враз, а потому не подготовили достаточно стационарных лагерей — бухенвальдов да освенцимов. Те месяцы на складах были, пожалуй, самыми жуткими в моей не шибко-то и длинной жизни. Вши в три слоя кишат, холод, смрад и голод. Многие умирали; сядешь на только что умершего, пока он еще теплый, и греешь промерзлую свою задницу — ему-то уж все равно. Мне все же порядком повезло: работал водовозом, ездил с бочкой на реку, и там местные бабенки нередко подсовывали что-нибудь из еды — кусок хлеба, ломтик сала, огурец соленый или яблоко. Сопровождал меня до реки и обратно один из охранников, пожилой и незлой, к тому же он понимал и немного говорил по-русски. Разговорились. Оказывается, он австриец, был военнопленным в Красноярске с 1914 по 1917 год, валил лес на Черной сопке. Пауль Кранке —так его звали. Зла на русских он не держал, напротив, хорошо о них отзывался. Представь, Пауль и на Столбы по воскресеньям ходил, много лазал там, ну так ведь в Альпах вырос. Час мы ехали с ним до реки, час обратно, и все вспоминали наши скалы, отдельные ходы. Да обо всем говорили, хотя по молчаливому согласию не упоминали в разговорах Гитлера, Сталина и нынешнюю войну, хотя про первую мировую он мне рассказывал изрядно. Он был старше меня ровно на столько, на сколько и я старше тебя сейчас. Занятно даже: я родился почти сразу после той войны, ты — почти сразу после этой. Дать мне чего-то существенного австриец, почти уже приятель мой, не мог, но каждый день делился со мной, некурящим, своим казенным куревом, на которое в лагере можно было выменять хоть тряпку потеплее, хоть какие-то продукты. Что ты хочешь, мне было тогда, как тебе сейчас, двадцать один год, и так хотелось выжить, выжить во что бы то ни стало, вопреки любой реальности. После — лагеря в Германии. Поскольку я назвался строителем, меня определили в особую команду, которую перебрасывали с объекта на объект, из тех, что потяжелее. Правда, и кормили чуть-чуть получше, чем в общем лагере смерти. В 1943 году мы строили бетонные укрепления против американцев и англичан, еще до первого, неудачного, десанта союзников через Ла-Манш. Затем нас перевели на строительные работы в Бельгию. Рыли глубокие противотанковые траншеи, сваривали и устанавливали "ежи". Но тут открылся уже настоящий Второй фронт, и на нашем участке быстро продвигались на восток англичане. Однажды нас вели колонной на работу; вдруг — стрельба со всех сторон. Немецкая охрана — те, кто уцелел, — разбежалась, а мы... Мы, не нарушая строя, продолжали шагать на запад, в сторону союзников, в сторону нашего спасения. Вскоре колонну остановили местные партизаны, уверенные в себе и хорошо вооруженные ребята. Препроводили нас в какую-то казарму, прилично кормили и прятали несколько дней, пока в город не вошли английские войска. Ох, как мы радовались, как смеялись и плакали от счастья, обнимали и целовали освободителей. Все так думали мы, привычные уже несчастья позади, а впереди только радостное возвращение на родину, вот только дождаться бы окончательной победы над врагом. Наивные мы были тогда... Неделю мы жили в Марселе, недалеко от знаменитого морского порта. Прошли полную санобработку, немного отъелись, расправили плечи. А потом нас всех перевезли на Британские острова, в Северный Уэльс. Одели в свою военную форму без знаков различия, просторно разместили и кормили так, как мне не приходилось есть никогда в жизни. К тому же была возможность подработать: многие мужчины воевали на фронте, так что за неплохую плату мы там плотничали, косили и так далее. Больше полугода — привыкли уже, хотя одна мысль свербила постоянно: домой хотелось. Девятого мая устроили грандиозную попойку, веселились вместе с англичанами; для меня этот день стал еще и дополнительным праздником. Видишь ли, я на фронт девственником ушел. Что наша Базаиха в те годы — маленькая деревня, все на виду: посватался я за соседскую девушку, а вот тронуть ее до войны не успел. Но в тот праздничный день какая-то англичанка меня утешила, гм... И вот летом 1945 года, после долгожданной победы, приехали к нам эмиссары-комиссары. Они вызывали нас поодиночке, пугали страшными карами — не приведи Господь кому в голову придет просить политического убежища — и обещали всяческие льготы как пострадавшим от плена. Нам, правда, затурканным в лагерях, такое и в головы не приходило. Спустя пару недель погрузили всех на пароход, и проплыли мы через Дарданеллы и Босфор в Черное море, так что по пути и в Турции побывали, можно сказать. Ну, здравствуй, Одесса; вот только почему это на пирсе столько краснопогонных солдат с блестящими штыками? Оказывается, по наши души. Английскую форму с нас содрали, одели в советское штопаное рванье, снятое с убитых, погрузили в теплушки, и — без пересадки до Татарского пролива, а далее — на Сахалин. Ну, условия перевозки неописуемые: дырка в полу — наш общий сортир, кормили баландой — хорошо, если раз в сутки, а то и ржавую селедку давали без воды. Как же они, суки-вертухаи, войны не видавшие, над нами издевались! А когда проезжали наш железнодорожный мост, я глядел из крохотного окошка своего скотовозного вагона на родную Базаиху и плакал от счастья и горя, смешанных воедино. Там, на острове, мы тяжко работали, хоть и жили не в зоне, а вроде бы как на поселении. Назвался груздем — полезай в кузов: и немцы, и советские использовали меня на строительстве чего угодно. В 1948-м меня неожиданно перевели под Иркутск, опять же на поселение: работа, работа, работа и полная неизвестность — что впереди и доколе я здесь? Переписка с родными не поощрялась, но и строго не запрещалась. Так я узнал, что умер мой отец. Умолил, уговорил начальство, чтобы отпустили хоть на четыре дня домой, похоронить. Похоронил — и остался дома, не вернулся на поселение. Голову от отчаяния запихал в песок по-страусиному и каждый день жду автоматчиков, по возможности ночую вне дома, шалаш соорудил на Моховом ручье. Так год прошел, а там, на Сахалине, выходит, про меня и забыли — по крайней мере, не искали. Про невесту свою спросил сразу, как приехал. Не дождалась она меня; как узнала, что я в лагере, так и выскочила замуж за своего одноклассника. Воевал честно, говорят, парень и везунчиком оказался: за четыре года ни царапинки. Живут и сейчас счастливо, Бог им в помощь. Пару лет спустя после побега — ведь фактически я сбежал из ссылки — удалось справить документы, вот и живу с тех пор опять в своем родовом доме, в Базаихе. Бобылем живу, памятью одинокой живу, если это можно жизнью назвать, да уж что теперь поделаешь... Анатолий Ферапонтов |
|
Использование материалов сайта разрешено только при согласии авторов материалов. | |